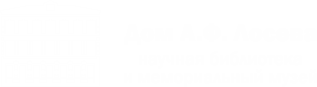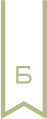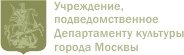СОЛОВЬЕВ Владимир Сергеевич

(16/28.1.1853 — 1/13.8.1900) — философ, поэт, публицист и критик. Выходец из благополучной семьи — сын историка С.М. Соловьева, в 21 год успевший изумить коллег профессионально глубоким и вместе с тем дерзновенным трудом и вызвать уважительный интерес у таких старших современников, как Л. Толстой, Ф. Достоевский, Н. Страхов; юноша с поражающей воображение наружностью, снискавший почти "скандальный успех" в светских салонах и интеллектуальных гостиных; путешественник по заграничным центрам просвещения и таинственным экзотическим землям, прямо с университетской скамьи направленный в престижную научную командировку, он привольно идет по дороге, которая сама расстилается перед ним, предлагая беспрепятственную академическую карьеру и суля жизнь, проводимую в утонченных умственных пиршествах.
Но вот происходит перелом в этой, казалось бы, ясно наметившейся линии: публично выступив с "безумным", по определению Победоносцева, призывом к царю Александру III — помиловать убийц его отца во имя христианской общественной идеи, Соловьев обнаружил свой истинный выбор и навсегда расстался с возможностями просторной и ровной дороги. В последующие годы он, конечно, не "питался сухожилием и яичной скорлупой" и в "болотах" не ночевал, как то изображается в его юмористическом стихотворении "Пророк будущего" (1886), но согласно с пояснением к этому опусу в его жизни действительно "противоречие с окружающею общественной средой доходит до полной несоизмеримости".
Само его происхождение, родовые корни наталкивают на мысль о некой провиденциальной подготовке появления его на свет: тут и поразительное сходство будущего скитальца, проповедника и натурфилософа со своим дальним предком, странствующим мудрецом и учителем жизни Григорием Сковородой, и благословение на служение Богу, полученное ребенком в алтаре от деда-священника, и дух воителя, унаследованный от военной родни, и, наконец, близость к складу отца, историка, принадлежавшего, по словам В.О. Ключевского, "к числу людей, готовых проповедовать в пустыне" и как будто передавшего сыну свою отроческую мечту — основать "философскую систему, которая, показав ясно божественность христианства, положит конец неверию".
За образцами подходящей для Соловьева судьбы мемуаристы и биографы отправляются в легендарные времена, обращаются к легендарным фигурам. Его сравнивают с античным праведником Сократом и античным любомудром Платоном не только из-за "сократовской" проповеди добра и "платонической" интуиции горнего мира, но и по сходному положению между общественными силами, с разных сторон не приемлющими носителя примирительной истины.
Столь же наглядна параллель Соловьева-проповедника с пророческими фигурами Ветхого завета, о которых он писал: "Они оказались пророками в трех смыслах: 1) они предваряли царство правды, идеально определяя им свое религиозное сознание; 2) они обличали и судили действительное состояние своего народа как противоречащее этому идеалу и предсказывали народные бедствия как необходимое последствие такого противоречия; 3) самим своим явлением и деятельностью они предуказывали выход из этого противоречия в ближайшей будущности народа..." Когда читаешь эти строки, понимаешь, что Соловьев, не мысля равнять себя с персонажами священной истории, тем не менее именно так представлял себе собственный долг по отношению к своей родине, и долг этот исполнял, не оглядываясь на обстоятельства.
Его не однажды сравнивали с Франциском Ассизским: с образом жизни великого католического святого сопоставляют как добровольную бедность Соловьева — правда, хранимую не по обету, а из "пренебрежения к власти денег" (Н.В. Давыдов) и из отзывчивости к просителям, так и одушевляющее отношение к природе, сочувствие к живым тварям и дар мистической радости, не чуждый юмора и шутки.
Соловьев разделял черты быта своей среды как ее гость, а не как ее член и жил в чужом монастыре, не расставаясь со своим уставом. Но, действительно, занятое им место могло раздражать своей необычностью, неожиданностью — этой роли в статуте мирской и церковной России прежде не существовало вовсе, быть может, лишь пунктиром была она обозначена в типе еще не выявившегося нового деятеля, в образе младшего из братьев Карамазовых. Это роль пророка в цилиндре и сюртуке. Такая фигура выглядела парадоксальной и неприкаянной. На ней не лежала печать церковного избрания и благолепия, а с другой стороны, она не умещалась в культурные представлениях общества, отринувшего религиозную опеку.
Между тем Соловьев предвосхитил общественную потребность в такой роли, чувствуя, что отрыв интеллигенции от христианства, а народной веры от просвещения приведет к катастрофе, если никто не возьмет на себя миссии посредничества. Его отважный, порой ведущий к нездравым проектам почин одними воспринимался как еретическое самочинство, другими — как старозаветный обскурантизм. Им двигали убеждение в наличии верховной правды и скорбь оттого, что она не торжествует в окружающем мире.
"Быть или не быть правде на земле" — таков для него главный вопрос жизни и одновременно ищущей мысли. Вопрос о судьбах правды — "быть или не быть" — он воспринимал как обращенный к его деятельной воле, как собственную жизненную цель; он словно был рожден вместе с представлением о том, что земное бытие должно быть покорено высшей истине. Каким же путем этого достичь, он начинает думать с ранней юности.
Соловьев учился на физико-математическом, затем на историко-филологическом факультете Московского университета, который окончил в 1873 г.; в 1874 г. защитил в С.-Петербурге магистерскую диссертацию "Кризис западной философии. Против позитивистов", в 1880 г. — докторскую диссертацию "Критика отвлеченных начал". После выступления в марте 1881 г. на публичной лекции с призывом к царю и общественному мнению не допустить смертной казни народовольцев-первомартовцев и пресечения академической карьеры Соловьева, он в течение всех 1880-х гг. отдает силы преимущественно публицистике, проповедуя объединение "Востока" и "Запада" через воссоединение церквей, борясь за свободу совести и против национально-религиозного гнета.
Сотрудничает (с 1883) в либеральном "Вестнике Европы". 1890-е гг. проходят под знаком напряженной философской и литературной работы (помимо оригинальных сочинений, переводит Платона, ведет философский отдел в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Эфрона). Конец жизни Соловьева отмечен приливом апокалиптических настроений и отходом от прежних философских конструкций в сторону христианской эсхатологии.
В историю русской идеалистической философии Соловьев вошел как крупнейший мыслитель, предпринявший попытку теоретически объединить в "великом синтезе" христианско-платоническое миросозерцание, немецкую классическую философию (главным образом Шеллинга) и научный эмпиризм. Однако беспрерывные перестройки этой заведомо противоречивой метафизической системы указывают на то, что на самом деле она служит лишь умозрительным "оправданием" жизненно-нравственных поисков и мифо-поэтических мечтаний Соловьева. Полагая, что "Нравственный элемент... не только может, но и должен быть положен в основу теоретической философии" (Собр. соч., т. 9, с. 97), Соловьев связывал философское творчество с позитивным разрешением жизненного вопроса, понимая его как реализацию христианского идеала (за социалистическими учениями Соловьев признавал лишь относительную общественно-историческую правду).
В конце 1870-х и 80-е гг., в обстановке безвременья и поисков новых путей преобразования России, Соловьев в противовес как радикально-демократическому, так и позднеславянофильскому и официально-консервативному направлениям мысли выступил с социальных позиций, близких к либеральному народничеству; однако умеренно реформистские взгляды перемежались у него с мистико-максималистской проповедью "теургического делания".
В русле христианского вероучения Соловьев развивал историософскую теорию "богочеловеческого процесса" как совокупного спасения человечества, сочетая ее с мечтами об избавлении материального мира от разрушительного действия времени и пространства в "нетленном" космосе красоты.
Социальная тема, принципиально разработанная в "Чтениях о Богочеловечестве" (1877—81), воплотилась затем в теократической утопии, политической проекцией которой у Соловьева оказывается союз между римским первосвященником и русским царем как институциональная гарантия богочеловеческого дела (см. например, "История и будущность теократии", 1885—1887). Крах этой теократической идиллии запечатлен в философской исповеди Соловьева "Жизненная драма Платона" (1898), в "Трех разговорах" (1899—1900), в предсмертных катастрофических предчувствиях: "Историческая драма сыграна, и остался... один эпилог" (Собр. соч., т. 10, с. 226).
Космическая тема разрешалась у Соловьева неортодоксально для христианства — на почве платоновского мифа об эротическом восхождении; в учении о "смысле любви" (см. одноименную статью, 1892—1894) Соловьев хочет "досказать речь Диотимы" из "Пира" в том духе, что совершенная половая любовь способна восстановить целостность человека и мира и ввести их в бессмертие. Некой гармонизации этих двух исходных мотивов и призвана служить метафизика Соловьева: собственно философская доктрина "всеединства" и религиозно-художественное учение о Софии.
Предприняв вслед за старшими славянофилами ревизию "западной философии" как отвлеченной рассудочности и негативной метафизики, Соловьев противополагает ей в сфере гносеологии "цельное знание" (образно-символическое постижение мира, основанное на нравственно-творческом усилии личности), а в сфере онтологии — "положительное всеединство": свободное объединение в абсолюте всех оживотворенных элементов бытия как божественный первообраз и искомое состояние мира. Однако это всеединство не только мыслилось философом, но и романтически предносилось ему в лице Софии, "вечной женственности", личная мистическая любовь к которой как бы освящала эротическую утопию Соловьева. Стихи "софийного цикла", посвященные "подруге вечной" — мистической возлюбленной, — это интимное средоточие поэзии Соловьева, попали впоследствии в центр внимания русских символистов.
Как мыслитель и утопист Соловьев оказался на пересечении разных идейно-духовных течений. Задумав свое философское дело как оправдание "веры отцов" на "новой ступени разумного сознания", он встал перед невыполнимой задачей — совместить научно-позитивный и рационалистический "дух времени" с религиозным преданием. Его не лишенная эволюционистской и пантеистической окраски космология и связанная с ней "теургия" (см., например, "Красота в природе", 1889) созвучны космически-преобразовательным идеалам Н.Ф. Федорова, К.Э. Циолковского, В.И. Вернадского. Его публицистическая война с обскурантами и политическими ретроградами обнаруживает точки схождения с либеральной, а отчасти и с демократической мыслью его времени. Наконец, Соловьев стоит у истоков "нового религиозного сознания" начала XX в.: богоискательства и религиозной философии С.Н. Булгакова, С.Н. и Е.Н. Трубецких, П.А. Флоренского и др.
Мысль Соловьева бросила вызов тому разделению, разъединению, которое в качестве изначального порока сопутствует процессам человеческой истории и культуры и, возможно, даже нарастает в них. Интеллектуальное просвещение разошлось с верой в абсолютные основания бытия, свобода оторвалась от истины как от своей положительной цели и увязла в области относительного, знание соответственно эмансипировалось от жизненного источника и замкнулось на постижении собственных законов; вплоть до враждебного противостояния разошлись исторические пути восточной и западной цивилизаций, в христианском мире произошел глубочайший вероисповедный раскол (схизма), национальное обособилось от вселенского, сословные и классовые интересы отмежевались от общечеловеческих.
С присущей ему духовной отвагой Соловьев ринулся соединять края образовавшейся трещины, цементируя ее примиряющей мыслью. В открытой им перспективе просвещению, поднявшись над уровнем позитивизма, предстоит "оправдать веру отцов", сделать ее разумно осознанной; "цельному знанию" следует опереться на сердце и совесть, а не на один только рассудок (идея, унаследованная Соловьевым от ранних славянофилов и своего учителя П.Д. Юркевича); "бесчеловечный Восток", сильный своим богопочитанием, но принизивший личность, найдет восполнение себе в "безбожном Западе", развившем зато необходимое начало индивидуальности; схизма, "великий спор" внутри исторического христианства, разрешится на путях отчленения второстепенных разногласий от единящей веры в Богочеловека; каждая национальность через уразумение своей особой миссии в семье народов вольется во вселенскую общность, не теряя лица; классовая и всякая вообще корысть смягчится под влиянием евангельских заповедей любви к ближнему, обратившихся в руководство социальной политики.
Но и это великое примирение было бы в глазах Соловьева ущербным, если бы осталось в пределах человеческой истории и не охватило весь природный мир, избавив его от тяжести, косности, разорванности во времени и пространстве. Венцом "великого синтеза" он мыслил распространение небесной гармонии на вещественный мир, и эта мечта о торжествующем "всеединстве" переживалась Соловьевым в связи с тайным зовом избранничества, надеждой, что он один из тех, кто "цепь золотую сомкнет и небо с землей сочетает". Свою примирительную миссию и задачу "великого синтеза" Соловьев меньше всего представлял осуществимыми на пути формального компромисса и безразличной уступчивости. Поэтому его общественная, равно как и философско-просветительская проповедь, направленная на погашение всяческой вражды, всегда вызывала враждебное противодействие и устремлялась против течения, точнее, против главных течений, сменявших друг друга при его жизни.
Исполняя задачу просвещения, Соловьев втянулся в многоактную драму с однотипными коллизиями: всякий раз он приглашает инакомыслящего соединить правду своих убеждений со вселенской истиной, пожертвовав при этом их ложной стороной, и всякий раз после такого призыва к "перемене ума", к обузданию своего идейного пристрастия перед философом запирается дверь, в которую он стучался. "Дверей" же было столько, сколько было в тогдашней России общественных сил.
Но, как замечает Е. Трубецкой, «"политик", который не отождествляет себя с какой-либо определенной партией, а пытается стоять над партиями, сочетая в своем уме истину каждой, со всех сторон вызывает к себе враждебное и несправедливое отношение: одни заподозривают в нем реакционера, другие, наоборот, — крамольника: диалектический переход от одной точки зрения к другой понимается как выражение непостоянства, изменчивости в убеждениях, а попытка объединения, синтеза противоположностей принимается за внутреннее противоречие». Эти соображения, однако, не должны смущать тех, кто сегодня обращается к Соловьеву, как не смущали они его самого. Проходит время, делает скачок, — и признание непонятного мыслителя "несомненно самым блестящим, глубоким и ясным философом-писателем в современной Европе" (К. Леонтьев) уже не выглядит причудой чьего-то эксцентрического ума, а, напротив, — справедливой и основательной оценкой.
Выясняется, что главные предвидения Соловьева оказались вещими, а пути, им предложенные, — не только не опровергнутыми историей, но, быть может, единственно неутопическими. Всякий, кто хотел бы последовать за ним в его жизненном деле, должен приготовиться к тому, что позицию его сочтут странной, иррациональной, чуть ли не лживой. Ведь такая позиция должна выходить за пределы партийных идеологий и частных интересов, руководствоваться которыми общепринято. Мало того, ей нельзя не возвышаться над трезвыми решениями, обеспечивающими кратковременный успех, но ведущими к духовному поражению. И нельзя не руководиться верой в невозможное и чудесное, если оно предстает как прекрасное сердцу и как должное совести.
Соч.: Собр. соч. 2-е изд. СПб., 1911—1913. Т. 1-10; Письма. СПб., 1908—1923. Т. 1—4; Стихотворения и шуточные пьесы. Л., 1974; Соч.: В 2 т. М., 1988; Соч.: В 2 т., М., 1989.
Лит.: О B. Cоловьеве М., 1911. Сб. 1; Трубецкой Е. Миросозерцание Вл.С. Соловьева. М., 1913. Т. 1—2 (нов. изд. М., 1995); Блок А.А. "Рыцарь-монах" // Собр. соч., М., 1962. Т. 5; Мочульский К.В. В.С. Соловьев. Париж, 1936; Зеньковский В.В. История русской философии. Л., 1991. Т. 2. Гл. 2; Соловьев С.М. Жизнь и творческая эволюция Владимира Соловьева. Брюссель, 1977; Лукьянов С.М. О Вл. Соловьеве в его молодые годы. Материалы к биографии. Кн. 1—3. Пг., 1916—1921 (М., 1990); Лосев А.Ф. Соловьев и его время. М., 1990; Wenzler I. Die Freiheit und das Bose nach V.S. Munchen, 1978.
P. Гальцева, И. Роднянская